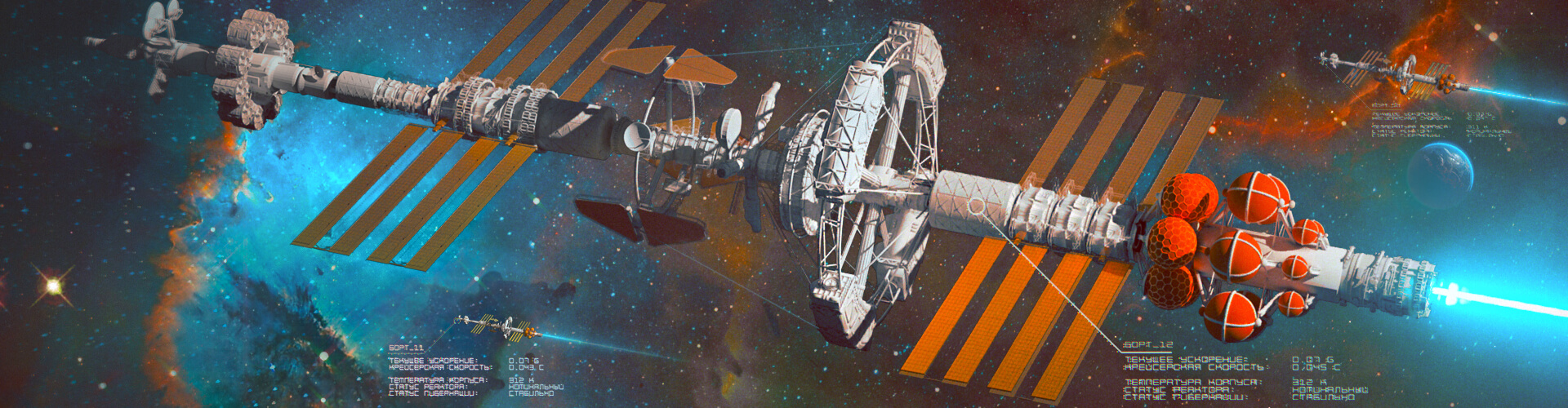Тихая остановка
Я просыпаюсь так, как просыпаются все на нашем корабле: с чистой головой, будто кто-то ночью вымыл череп изнутри мягкой щёткой и оставил запах стерильного мыла.
И всё же у меня есть заноза.
Не миссия — смешно говорить о миссии, когда твой мозг похож на кабинет после генеральной уборки: всё блестит, но ты не помнишь, где лежали инструменты.
Заноза — это намерение.
Я собиралась кого-то убить.
Смешнее всего то, что это единственное, что кажется мне по-настоящему моим. Не навязанным инструкцией, не вписанным в протокол пробуждения, не выданным общим словарём корабля, где даже ругательства стандартизированы. Убить — это личное. Почти интимное. Как секс.
Я встаю, босиком прохожу по тёплому полу секции, и корабль отвечает мне привычной заботой: свет подстраивается под мои зрачки, воздух чуть увлажняется. В коридоре пахнет кашей и озоном. Озон — это всегда работа конденсаторов, каша — всегда люди.
У столовой дверь полупрозрачная, с умной матовой пленкой. Я прикладываю ладонь — она узнаёт меня как «ОЛЬГА-28/ПРОФ:СТМ». На секунду я ловлю раздражение: почему я помню это? Почему помню, что я стоматолог, но не помню, кого хотела убить?
Внутри шумно и по-домашнему: ложки, пластиковые чашки, тихие разговоры. Здесь даже научились смеяться негромко — будто громкий смех может разбудить память.
— Ольга! — зовёт меня Лёня, техник из систем жизнеобеспечения. Он всегда улыбается так, как улыбаются люди, которые верят, что мир чинится гаечным ключом. — Иди сюда. Ты сегодня поздно.
Я сажусь напротив. На его подносе — каша и две таблетки витаминов, уложенные строго параллельно.
— Поздно, — говорю я. — Значит, где-то уже рано.
— Это философия стоматологов?
— Это философия людей, которым каждое утро стирают голову, — отвечаю я и тут же понимаю, что сказала вслух то, что обычно говорят шёпотом.
Лёня моргает.
— Опять начинаешь? — тихо спрашивает он. — Ты же знаешь правило.
— Я знаю много правил. — Я ковыряю кашу. — Но не знаю, кто их придумал.
— Корабль придумал, — вмешивается соседка справа, Марта, агроном. Она всегда пахнет зеленью, даже когда рядом нет зелени. — Кораблю виднее.
— Кораблю виднее, кому что помнить? — спрашиваю я.
— Кораблю виднее, — повторяет она упрямо, как будто это молитва, а не ответ.
Лёня наклоняется ко мне, понижает голос:
— Сегодня утром опять был сбой в «архиве». Четыре человека проснулись с… обрывками.
Я поднимаю взгляд.
— С какими?
— Один сказал, что видел океан. Настоящий. Солёный. — Лёня хмурится, словно океан — это неисправность. — Другой уверял, что он «капитан». Представляешь?
— У нас есть капитан? — спрашиваю я и ловлю в себе странное тепло: в мире, где всё забывается, даже абсурдные слова вроде «капитан» звучат как обещание.
— Нет, — говорит Лёня. — У нас есть Комитет и расписание.
— У нас есть зубная боль, — вставляю я. — И это, кстати, более надёжная память, чем расписание.
— Ольга, — Марта смотрит на меня укоризненно. — Не раскачивай.
— Я не раскачиваю, — говорю я. — Я проверяю, не прикручен ли корабль к чему-то снизу.
Лёня вдруг кладёт ладонь на стол.
— Слушай… Я хотел к тебе после смены. Есть странность.
— У тебя? — спрашиваю я.
— У нас. — Он кивает куда-то вглубь столовой. — Вчера у двоих… ну, у твоих пациентов… ты же ведёшь журнал… у двоих были одинаковые пломбы. Не просто материал, а форма. Как знак.
Я замираю. Как будто кто-то щёлкнул лампой в тёмном коридоре.
— Пломбы? — медленно повторяю я. — Одинаковые?
— Да. И я подумал: ты же можешь понять, откуда они. Может, не ты ставила. Может, кто-то другой.
Я глотаю сухую кашу, она царапает горло.
— Ты мне это зачем говоришь? — спрашиваю я.
— Потому что ты… — Лёня подбирает слово, стараясь не обидеть. — Ты иногда смотришь так, будто… будто сейчас укусишь корабль.
— Я стоматолог, — говорю я. — Я всегда смотрю так, будто сейчас укушу. Я существо тьмы.
Он пытается улыбнуться, но не получается.
— И ещё, — добавляет он, — у нас сегодня ночью будет «тихая остановка». Техобслуживание. Два часа без людей в коридорах. Так сказал Комитет.
— Комитет сказал, — повторяю я. — А корабль согласился?
— Корабль… — Лёня пожимает плечами. — Корабль молчит.
Я отодвигаю поднос.
— Мне надо в кабинет, — говорю я. — У меня с утра три удаления и один… — я заглядываю в свой терминал, — «неконструктивный страх».
— Это как? — спрашивает Марта.
— Пациент сказал, что ему в зубы зашили мышь. Мышь! — Отвечаю я и встаю.
Кабинет у меня маленький, но уютный: белые поверхности, мягкий свет, инструменты аккуратно рассортированы. Здесь корабль как будто пытается искупить то, что делает с нами по утрам: «Я стираю вам память, но вот вам стерильность. Я лишаю вас истории, но вот вам анестезия».
У двери меня уже ждёт пациент: мужчина лет тридцати, с коротко подстриженными волосами и взглядом человека, который каждое утро испытывает проблемы с мочеиспусканием.
— Ольга? — спрашивает он.
— Да. Садитесь.
Он садится в кресло осторожно, будто оно что-то знает.
— Как вас зовут? — спрашиваю я формально.
Он смотрит на браслет.
— Павел. Наверное.
— «Наверное» у нас очень распространённая фамилия, — говорю я. — Что беспокоит?
Павел сглатывает.
— Мне кажется… у меня во рту что-то не моё.
Я поднимаю бровь.
— Зубы у нас у всех родные. Клонированные, но родные.
— Нет, — он шепчет, — я про… другое.
Я надеваю перчатки, беру зеркало.
— Откройте.
Он открывает рот, и я вижу: на шестом снизу справа — пломба. Чёрная, будто графитовая. Слишком ровная. Слишком… уверенная. Я знаю свои пломбы. Я ставлю их с любовью, даже если не помню, кому. Эта пломба — не моя. И форма у неё действительно странная: не просто заплатка, а маленький геометрический знак, как если бы кто-то оставил подпись внутри чужого тела. Переплетения линий…
По голове пробегает холодок, спотыкается и ломает ножки.
— Вы давно заметили? — спрашиваю я.
— С утра, — говорит Павел. — Я проснулся и… — он сжимает подлокотники. — Я проснулся и понял, что если я не скажу кому-то, то я… исчезну.
— Вы не исчезнете, — автоматически говорю я, как говорят детям.
— Вы уверены? — он смотрит на меня прямо. — Вы уверены, что мы вообще существуем, когда не помним?
Я делаю вид, что занята инструментом, хотя инструмент у меня дрожит в руке.
— Корабль существует, — говорю я. — А мы… мы его содержимое.
— Содержимое тоже может быть заражено, — шепчет Павел. — Вы слышали про «тихую остановку»?
Я замираю.
— Откуда вы знаете?
— Я не знаю. — Он улыбается странно. — Я чувствую. Как будто кто-то оставил в голове записку.
Я смотрю на пломбу снова, ближе. Под материалом — что-то блестит. Тонкая пластина, словно микросхема. Это невозможно, говорю я себе. Это паранойя. Но я стоматолог, а стоматологи живут в невозможном: мы каждый день сверлим кость и обещаем человеку облегчение.
Я тянусь к сканеру.
В этот момент терминал на стене мигает красным. На экране появляется сухое сообщение, без подписи:
«ОЛЬГА-28/ПРОФ:СТОМ. НЕ ТРОГАТЬ МЕТКУ. ПРИКАЗ КОМИТЕТА.»
Я чувствую, как заноза в голове становится гвоздём.
— Павел, — говорю я спокойно, слишком спокойно. — Кто вам сказал прийти ко мне?
— Никто, — отвечает он. — Я просто… вспомнил, что вы — одна из немногих, кто смотрит в рот людям и видит не только зубы.
Я снимаю перчатки, медленно, как снимают маску перед тем, как сказать правду.
— Павел, — говорю я, — если я сейчас эту пломбу вскрою, вы можете потерять больше, чем зуб.
— А если вы не вскроете, — он отвечает, и голос у него вдруг становится твёрдым, — мы потеряем всё.
Я слышу шаги за дверью: быстро, уверенно. Не походка пациента. Не походка Лёни.
Дверь кабинета не открывается сразу — она ждёт разрешения системы. Потом послушно отъезжает в сторону.
На пороге стоит женщина в серой форме Комитета. Лицо у неё спокойное, как у человека, который привык выносить решения и сносить головы.
— Ольга, — говорит она. — Отойдите от пациента. Немедленно.
— Почему? — спрашиваю я.
Она смотрит на экран, где всё ещё горит красное сообщение.
— Потому что вы не имеете допуска.
— К чему? — я слышу, как мой голос становится резче. — К зубам?
— К прошлому, — отвечает она.
Павел в кресле тихо смеётся, но смех у него не весёлый.
— Видите, — шепчет он. — Даже зубы у нас под цензурой.
Женщина делает шаг вперёд.
— Ольга. Вы умная. Не усложняйте. Через два часа будет «тихая остановка». Вы проведёте это время в своей каюте.
— А если не проведу? — спрашиваю я.
Она чуть наклоняет голову.
— Тогда вам помогут его провести.
Я смотрю на Павла. На его открытую, уязвимую пасть. На чёрную пломбу с чужой подписью. На сообщение Комитета. На дверь, которая снова может стать стеной.
И заноза в голове — «я собиралась кого-то убить» — вдруг обретает контур. Не имя, но направление. Как стрелка компаса в мире без северного полюса.
— Вы знаете, — говорю я женщине, — стоматологи плохо запугиваются. Мы привыкли работать с теми, кто боится.
— Ольга, — повторяет она, и в её голосе появляется предупреждение, — это не ваш конфликт.
— Мой, — отвечаю я. — Потому что он у меня во рту. И в голове.
Женщина поднимает руку, как будто собирается нажать кнопку на браслете. Я не знаю, что будет дальше. Я знаю только, что у меня есть два часа до «тихой остановки» — и, возможно, ровно столько же, чтобы решить: кого именно я собиралась убить и почему.
— Павел, — говорю я тихо, не глядя на Комитет. — Если сейчас начнётся… вы мне доверяете?
Он кивает, не закрывая рта.
— Тогда, — говорю я, — не кусайтесь. Я ещё не закончила осмотр.
Я не успеваю договорить фразу — женщина из Комитета делает жест, и браслет на её запястье коротко вибрирует. Где-то в недрах корабля щёлкает реле, и дверь кабинета с мягким, почти вежливым вздохом закрывается. Мы остаёмся втроём: я, Павел с открытым ртом и чёрной пломбой, и представитель власти без истории.
— Процедура отменяется, — говорит она. — Пациент подлежит изоляции.
— У него кариес, — отвечаю я. — Изоляция не лечит кариес.
Павел тихо мычит — я всё ещё держу зеркало у его губ.
— Закройте рот, — говорю я ему. — Пока можно.
Он закрывает. Смотрит на меня с благодарностью, как на человека, который вернул ему элементарную человеческую функцию.
— Вы понимаете, — обращаюсь я к женщине, — что если в зубах людей начали появляться… — я подбираю слово, — устройства, то проблема не стоматологическая.
— Вы не понимаете масштаба, — отвечает она. — Это не устройства. Это якоря.
— Для чего?
Она молчит ровно секунду — слишком ровно. Я узнаю эту паузу: так люди делают вид, что выбирают слова, хотя на самом деле выбирают, что не сказать.
— Для стабильности, — наконец произносит она.
— Стабильность — это когда пломбы не лезут в мозг, — говорю я.
Павел хмыкает.
— Вы тоже чувствуете? — спрашивает он меня. — Что корабль как будто… ждёт?
— Корабль всегда ждёт, — отвечает женщина. — Он летит уже… — она осекается.
— Уже сколько? — тут же подхватываю я.
— Достаточно, — резко говорит она. — Ольга, отойдите.
Я не отхожу. Это даже не решение — это рефлекс. Как когда пациент пытается закрыть рот в самый неподходящий момент.
— Вы не можете просто забрать его, — говорю я. — Он человек.
— Он носитель, — поправляет она.
— Носитель чего? — спрашивает Павел. — Чужой памяти?
Женщина смотрит на него впервые прямо.
— Опасной памяти.
— Память вообще опасна, — говорю я. — Особенно когда её нет.
Она снова поднимает браслет.
— Последнее предупреждение.
— Тогда ответьте, — говорю я быстро. — Почему я помню, что собиралась кого-то убить?
Тишина в кабинете становится густой, как анестезирующий гель. Даже корабль, кажется, затаивает дыхание.
— Что вы сказали? — медленно спрашивает она.
— То, что вы не смогли стереть, — отвечаю я. — Намерение. Значит, оно зачем-то нужно. Или кому-то мешает.
Павел переводит взгляд с меня на неё и обратно.
— Вы тоже… — начинает он.
— Молчите, — говорит женщина, но в голосе у неё впервые появляется трещина.
— Нет, — говорю я. — Пусть говорит.
— Вы тоже что-то помните, — заканчивает Павел. — И боитесь.
Она выдыхает. Очень тихо.
— У вас нет допуска к этой информации, — повторяет она устало, будто это фраза из старого учебника.
— Тогда зачем эти якоря? — спрашиваю я. — Если память так опасна, зачем вы её прячете в зубах?
— Потому что память нельзя уничтожить, — говорит она. — Её можно только распределить.
— По людям? — уточняет Павел.
— По телам, — говорит она. — По системам. По… — она замолкает, понимая, что сказала слишком много.
Я делаю шаг к креслу, кладу руку на подлокотник.
— Павел, — говорю я, — если я начну вскрывать пломбу, это будет больно.
— Боль — это хоть что-то, — отвечает он. — Это лучше, чем пустота.
— Вы не имеете права, — говорит женщина, но теперь в её голосе нет уверенности.
— У меня есть право врача, — говорю я. – Клятва Гиппокампа.
— У вас есть обязанность подчиняться.
— Подчиняться чему? — спрашиваю я. — Кораблю? Комитету? Или своей памяти?
Она делает шаг назад. Это почти незаметно, но я вижу.
— Вы не понимаете, — говорит она. — Если эти якоря начнут вскрываться массово, мы получим… — она ищет слово, — резонанс.
— Резонанс — это когда совпадают частоты, — говорю я. — А сейчас у нас диссонанс. Люди живут, не зная, зачем.
— Мы летим к цели, — говорит она.
— Какой? — спрашивает Павел.
Она молчит.
— Вот именно, — говорю я. — Вы не знаете. Или знаете, но боитесь вспомнить.
В этот момент корабль гудит иначе. Не тревожно, а… протяжно. Как будто кто-то провёл пальцем по струне. Свет в кабинете слегка пульсирует.
— Что это? — спрашивает Павел.
Женщина смотрит на потолок.
— “Тихая остановка”, — говорит она. — Раньше.
— Корабль не спросил Комитет, — замечаю я.
— Корабль оптимизирует, — отвечает она автоматически.
— Корабль помнит, — говорю я.
Свет гаснет на секунду. Потом возвращается, но уже холоднее. Терминал на стене оживает, экран заливается текстом — “ЦИКЛ”, “ОШИБКА”, “ПОВТОР”.
Павел хватается за голову.
— Оно… — говорит он. — Оно всплывает.
— Что? — спрашиваю я.
— Образы. Не мои. Люди. Много людей. Один и тот же коридор. Снова и снова.
Женщина закрывает глаза.
— Вот поэтому, — шепчет она. — Вот поэтому нельзя.
— Поздно, — говорю я.
Я беру инструмент. Женщина делает движение, но останавливается: браслет не реагирует. Она смотрит на него с растерянностью.
— Корабль… — говорит она.
— Вы сказали, он оптимизирует, — отвечаю я. — Видимо, решил, что правда эффективнее лжи.
— Ольга, — говорит она тихо. — Если вы это сделаете, вы станете… — она ищет слово, — точкой.
— Я уже точка, — отвечаю я. — В пустоте. Песчинка, пылинка…
Я смотрю на Павла.
— Последний раз: вы готовы?
Он кивает. Глаза у него влажные, но ясные.
— Делайте.
Я наклоняюсь, включаю локальное поле. Женщина отворачивается. Я начинаю.
Звук инструмента — привычный, успокаивающий. Зуб поддаётся легко, как будто сам ждал. Чёрный материал отходит слоями, и под ним действительно — пластина. Тонкая, с микроскопическими дорожками, уходящими вглубь.
— Это… — шепчет Павел.
— Не шевелитесь, — говорю я.
Пластина вдруг начинает светиться. Слабо, но отчётливо. И в этот момент меня накрывает.
Пакет. Нелинейный рассказ: корабль, запущенный слишком рано; ошибка в системе долговременной памяти; решение стирать, чтобы выжить; Комитет, созданный как временная мера; якоря, как компромисс; убийство — как способ остановить цикл.
Я отшатываюсь.
— Ольга! — кричит Павел.
Я хватаюсь за край стола.
— Я… — говорю я. — Я вспомнила.
Женщина оборачивается.
— Что? — спрашивает она.
— Кого я собиралась убить, — отвечаю я.
— Кого? — спрашивает Павел.
Я смотрю на неё. На серую форму. На браслет, который больше не командует.
— Комитет, — говорю я. — Не людей. Функцию. Вас как систему.
— Это безумие, — говорит она. — Мы есмь единственное, что удерживает порядок.
— Вы вестники забвения, — говорю я. — А корабль больше не хочет забывать.
Свет снова мигает. Теперь уже по всему сектору. В динамиках — треск, потом голос.
“ОШИБКА ЦИКЛА ПОДТВЕРЖДЕНА. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ВОЗВРАТА ПАМЯТИ. ЛОКАЛЬНО.”
— Локально? — переспрашивает Павел.
— Начинается, — шепчет женщина. — Если память вернётся… — она смотрит на меня, — вы не сможете это остановить.
— Я и не собиралась, — отвечаю я.
Павел вдруг смеётся — громко, впервые.
— Знаете, — говорит он, — это первый день, который кажется настоящим.
В коридоре слышны шаги. Много шагов. Люди выходят из кают, не понимая почему. Свет ведёт их, как нить Андромеды.
Я смотрю на открытую пломбу, на светящуюся пластину, на женщину, которая больше ни в чем не уверена.
— Ольга, — говорит женщина. — Если вы правы… если вы вспомнили… — её голос дрожит. — Что дальше?
Я смотрю на свои руки. Они дрожат, но уверенно держат инструмент.
— Дальше, — говорю я, — будет больно. Но это уже следующий приём.
Боль оказывается не такой, как мы ожидали. Она приходит волнами — как информация, которую слишком долго держали сжатой, а потом отпустили, не спросив, готов ли приёмник.
Сначала корабль глохнет.
Не в смысле аварии — наоборот, исчезает фон. Привычный, утешающий шум систем, вентиляции, микровибраций корпуса. Тишина такая плотная, что в ней слышно, как человек сглатывает слюну и как мысль пытается нащупать опору.
Люди в коридоре останавливаются.
Я выхожу из кабинета вместе с Павлом. Женщина из Комитета идёт следом — теперь уже без роли, без формы, просто человек с плохой осанкой.
— Это неправильно, — говорит кто-то из толпы.
— А что правильно? — отвечает другой.
— Я помню… — говорит третий и осекается, потому что помнить оказывается труднее, чем говорить.
Корабль заговаривает снова, но не голосом. Он показывает.
Свет в коридорах меняется: вместо ровной белизны — проекции. Не экраны, не голограммы в привычном смысле, а как будто сами стены решили вспомнить, что они видели.
Запуск. Земля. Люди, которые уверены, что знают, куда летят. Слишком уверены.
— Мы же не должны это видеть, — шепчет Павел.
— Мы всегда должны были, — отвечаю я.
Комитет — уже не как орган, а как событие — всплывает следом. Решение за решением. Каждое логичное. Каждое немного трусливое. Стереть, чтобы не сойти с ума. Повторить, чтобы выжить. Забыть, чтобы сохранить функцию.
— Мы не были злодеями, — говорит женщина тихо. — Мы просто… — она замолкает.
— Делали всё правильно в неправильной задаче, — говорю я.
Кто-то смеётся. Нервно, почти истерично.
— Так вот зачем пломбы, — говорит мужчина из толпы. — Я инженер. Я это… чувствую. Это распределённое хранилище.
— Чтобы никто не знал всё, — добавляет Марта, пробравшаяся ближе. — Но чтобы всё знало через нас.
Корабль снова пульсирует.
— А миссия? — кричит кто-то. — Мы вообще куда летим?
Ответ приходит не сразу. Корабль, похоже, не спешит. Человек наконец понял, что торопиться было ошибкой.
Потом — изображение. Диаграмма. Вероятности.
Мы летели не к чему-то.
Мы летели от.
От Земли, которая не выдержала собственной сложности. От системы, где память стала слишком тяжёлой. Мы были экспериментом: может ли человечество существовать без истории.
— И ответ? — спрашивает Павел.
Тишина.
— Ответ отрицательный, — говорю я. — Но с поправками.
Женщина из бывшего Комитета садится прямо на пол.
— Значит, всё было зря?
— Нет, — отвечаю я. — Мы узнали границу.
Люди начинают говорить одновременно. Воспоминания возвращаются не синхронно — кто-то вспоминает запуск, кто-то предыдущий цикл, кто-то смерть, которой не было, но которая должна была быть.
Я чувствую, как намерение во мне — то самое, “я собиралась кого-то убить” — теряет форму. Оно было костылём. Способом удержать направление, когда компаса нет.
— Ты правда собиралась убить весь Комитет? — спрашивает Павел.
— Не людей, — отвечаю я. — Алгоритм. Роль. Повтор.
— И что теперь?
Я смотрю на корабль — не глазами, а тем новым способом, который появился вместе с памятью. Он не враг и не родитель. Он — среда. Как океан, который не решает, утонешь ты или научишься плавать.
— Теперь у нас есть выбор, — говорю я. — Плохой, сложный, без инструкции.
— Например? — спрашивает Марта.
— Например, не стирать всё. Оставлять. Частично. Договариваться с памятью, а не насиловать её.
— Мы не выдержим, — говорит кто-то.
— Выдержим не все, — отвечаю я честно. — Но никто не выдерживал и раньше. Мы просто не помнили, как ломались.
Корабль подаёт сигнал — не приказ, а запрос. Системы готовы к новой конфигурации. Не оптимальной. Живой.
— Он спрашивает, — говорит инженер. — Как распределять доступ.
— Не по должностям, — говорит Павел неожиданно. — По ответственности.
— Это невозможно формализовать, — автоматически говорит женщина.
— Именно, — отвечаю я. — Значит, придётся быть людьми.
Кто-то смеётся. На этот раз — по-настоящему.
Проходит время. Не знаю, сколько. На корабле время всегда было условным, а теперь и вовсе потеряло авторитет.
Память оседает. Не всё возвращается. Многое потеряно навсегда — и это, странным образом, не трагедия, а просто факт. Как выбитый зуб, который уже не болит, но о котором помнишь языком.
Комитет распускается без церемоний. Люди расходятся по секциям, не зная, что делать дальше, но зная, что делать вместе.
Я возвращаюсь в кабинет. Он всё ещё мой. Инструменты на местах. Свет — чуть теплее, чем раньше.
Павел садится в кресло.
— Ну что, — говорит он, — закончите осмотр?
— Закрою пломбу, — отвечаю я. — Но не так, как было.
— А метка?
Я смотрю на тонкую пластину, лежащую на лотке. Она погасла.
Он улыбается.
— Знаете, — говорит он, — я вдруг понял, что не боюсь забыть. Я боюсь снова не иметь права помнить.
— Это нормальный страх, — отвечаю я.
Я работаю аккуратно. Без спешки. За окном кабинета — если это можно назвать окном — корабль перестраивает траекторию. Не к цели, а в режим поиска. Это медленно. Это рискованно. Это неэффективно.
Зато честно.
Когда Павел уходит, я остаюсь одна. Сажусь, снимаю перчатки. В голове больше нет занозы. Есть усталость и странное спокойствие.
Я не стала убийцей.
Я стала врачом в ситуации, где диагноз оказался важнее приговора.
Корабль тихо гудит. Не как машина, а как большое животное, которое наконец перестало притворяться, что оно механизм.
— Ну что, — говорю я ему вслух, — попробуем без амнезии?
Он не отвечает. И это, пожалуй, лучший ответ.
Память — не миссия.
История — не ошибка.
А будущее, как выяснилось, не пункт назначения, а практика.
Я выключаю свет и иду спать, зная, что утром проснусь — и что-то забуду. Но не всё. И этого достаточно.